Прямые последствия перевернутого

Описание
Этот мир долго был камнем преткновения физиологов. Он получился, как вы помните, из геометрического построения хода лучей в глазу, сделанного Кеплером. А увидел его впервые Декарт, под знаком идей которого, изложенных в «Трактате о свете», прошла вторая половина XVII и весь XVIII в. Декарт взял глаз быка и соскоблил с его задней стенки непрозрачный слой, а потом укрепил эту естественную камеру-обскуру в дыре, прорезанной в оконном ставне. И тут же на полупрозрачной сфере глаза открылся вид, наблюдавшийся из окна.Пейзаж был перевернутым. Декарта, как и Кеплера, это не смутило. Он был убежден, что душа вполне в состоянии построить даже по таким «знакам» вполне реальный образ материального мира. Правда, он не опросил себя, сумеет ли душа перевернуть изображение еще раз, если с помощью линз «выпрямить» картинку на сетчатке. Этот вопрос ставили позднейшие исследователи и априорно решали его в пользу души, то есть мозга. Гельмгольц, например, в качестве доказательства приводил людей, работающих с микроскопами: они быстро приучаются к тому, что правая сторона в поле зрения — это левая в натуре и наоборот. Добавим, что и астрономов не волнует перевернутое изображение Луны в телескопе, а фотографы, снимающие камерами с матовым стеклом (правда, аппаратов таких сейчас почти не осталось), не испытывают неудобств от того, что глядят на «обращенный» пейзаж.
Однако все эти примеры мало чем убеждают. И в микроскопе, и в телескопе, и на матовом стекле фотоаппарата человек встречается с изображениями, лишенными стереоскопической глубины. Он не видит в поле зрения своих рук и не должен координировать своих движений с расположением предметов в пространстве. Наблюдения продолжаются в общем недолго, а это также минус. Словом, необходим был решительный эксперимент. Его впервые поставил на себе профессор психологии Калифорнийского университета Джордж Стреттон в 1896 г.
Вначале ощущения были не из приятных. Зрение оставалось четким, но сами предметы казались какими-то странными. «Создавалось впечатление, — писал ученый в дневнике, — что эти смещенные, фальшивые, иллюзорные образы находились между мною и объектами как таковыми... Вещи виделись одним образом, а мыслились совершенно другими». Первые три дня ученый ощущал тошноту и другие признаки морской болезни. На четвертые сутки организм стал приходить в норму, остались только ошибки в определении правого и левого, а на пятый день и они исчезли. Человек освоился в необычном мире. А когда очки были сняты, переход в прежний, неперевернутый мир произошел удивительно быстро, в течение одного-двух часов. Иными словами, перестройка «переворачивающего механизма» во время опыта практически не затронула прежних навыков мозга.
К сожалению, ценность эксперимента была значительно снижена и его краткостью, и тем, что переворачивающие очки были монокулярными. «Перевернутый мир» рассматривался только одним глазом. Между тем огромное значение, как мы хорошо знаем, имеет для нас бинокулярное зрение, сообщающее предметам объемность. Можно было думать, что, опрокинув мир в обоих глазах, экспериментатор ощутит и более сильные эффекты.
[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]
Так оно и оказалось, когда сорок лет спустя после опытов Стреттона его соотечественник Петерсон надел бинокулярные переворачивающие очки. «Я видел мою стопу, приближающуюся ко мне по коврику, который находился где-то передо мной. Я впервые столкнулся с таким странным зрительным впечатлением, как я сам, идущий к себе. Блюда на столе выворачивались так, что превращались в холмики, и было очень странно видеть, как ложка движется к верхушке жидкости, снимая ее, — и ничего не разливается. Когда я вошел в длинный коридор, я обнаружил, что пол выглядит мысом, по обеим сторонам которого опускаются вниз стены. Это было тем более странно, что я мог коснуться стен руками. Торцевая стена в конце коридора выглядела выдвинувшейся ко мне, а стены — удалившимися от нее, хотя я их трогал руками».
Как и в опыте Стреттона, неприятные ощущения кончились через несколько дней. А потом исследователь просто не замечал переворачивающих линз до самого конца опыта. Он словно родился с ними. Более того, когда через восемь месяцев Петерсон еще раз надел очки, оказалось, что его мозг не расстался за это время с приобретенными навыками: ученый чувствовал себя в «обращенном» мире вполне свободно, как если бы перерыва не было.
Что ж, все ясно, все решено? Исследователи не были бы исследователями, если бы не ставили опытов по множеству раз. Новые экспериментаторы всегда вносят в технику работы нечто новое, и оно освещает проблему с неожиданной стороны. Именно такое произошло, когда Фредерик Снайдер решил повторить опыты своих предшественников. Он ходил в очках целый месяц, дольше всех. Он уже совершенно не ощущал присутствия стекол и думал, что его мозг полностью перестроился на восприятие перевернутого мира. И тут кто-то спросил его: «А все-таки, какими вы видите предметы: прямыми или перевернутыми? »
— Пока вы не задали этот вопрос, — после раздумья ответил Снайдер, — они казались мне стоящими нормально. Теперь же, когда я вспоминаю, как они выглядели до того, как я надел эти линзы, я вынужден сказать, что вижу сейчас их перевернутыми. Но пока вы меня об этом не спрашивали, я этого абсолютно не сознавал.
Вспоминаю... Видел... Вижу... Что это? Разве в нас существуют два зрения, одно «видимое», а другое «воображаемое»?
Психологи попытались рассмотреть проблему, опираясь на высказывание американского исследователя Джеймса Гибсона, сделанное им в 1950 г. в книге «Восприятие видимого мира»: «Если вы посмотрите в окно, вы увидите землю, здания и, если повезет, то еще деревья и траву. Это то, что мы условимся называть видимым миром. Это обычные сцены повседневной жизни, в которой большие предметы выглядят большими, квадратные — квадратными, горизонтальные поверхности — горизонтальными, а книга, лежащая в другом конце комнаты, выглядит так, как она представляется, когда лежит перед вами. Теперь взгляните на комнату не как на комнату, а, если сможете, как на нечто, состоящее из свободных пространств и кусочков цветных поверхностей, отделенных друг от друга контурами. Если вы упорны, сцена станет похожа на картинку. Вы заметите, что она по содержанию чем-то отличается от предыдущей сцены. Это то, что мы назовем видимым полем. Оно менее знакомо, чем видимый мир, и его нельзя наблюдать без определенных усилий».
Советский психолог профессор Леонтьев считает «видимый мир» и «видимое поле» двумя стадиями одного и того же процесса зрения. На одной работает «чувственная ткань», то есть сетчатка, приносящая в мозг как бы плоскую картину, спроецированную хрусталиком. А на другой стадии вступает в действие «предметное содержание», вернее, оно конструируется в мозгу на основании работы чувственной ткани и прошлого опыта человека.
Сотрудники кафедры общей психологии МГУ Логвиненко и Столин обратили внимание на то, что очень близки друг к другу описания «видимого поля» и того странного мира, который наблюдали люди в переворачивающих очках, пытаясь понять, видят ли они мир прямым или перевернутым. Было решено проверить, действительно ли в оборачивающих линзах мы воочию наблюдаем «видимое поле». Испытуемой стала студентка факультета психологии. Она научилась прежде всего смотреть на окружающее «по Гибсону». Потом надела инвертирующие очки. А когда привыкла к перевернутому миру, когда он стал для нее столь же обычен, как и мир нормальный, попыталась всмотреться в него снова «по Гибсону». Как и предполагали экспериментаторы, пейзаж перед ней перевернулся вверх ногами, как в первый день, когда очки были только что надеты.
Что это значит? Только то, что перевернутое хрусталиком изображение поступает с сетчатки в мозг перевернутым. Потом это «видимое поле» как бы переворачивается с помощью специального нейронного механизма — одного из каналов той многоканальной системы зрительного восприятия, о которой мы уже много раз говорили. Обобщенный образ инвариантен к поворотам — значит, для видения предметов и их опознания нет препятствий; а вот перевернут ли мир в действительности или нет — об этом аппарату восприятия сообщает специальный канал. Вспомните, как вы глядите на мир, вися вниз головой на турнике: люди и дома не перестают для вас быть людьми и домами, причем вы знаете, что перевернуты не они, а вы, об этом говорит мозгу вестибулярный аппарат, и мозг вносит коррективы в восприятие. У маленьких детей механизм перевертывания еще не сформировался, им все равно, повернуты демонстрируемые фигуры так или иначе. Это совершенно снимает древнюю «проблему», видит ли ребенок своих родителей стоящими на ногах или на голове. Он их просто видит, и все тут. Понятие верха и низа придет к нему позже.
У взрослого же канал «верх — низ» за годы практики выучился подавать нужную информацию. Но то, что обучилось, способно переучиться. Иными словами, мы в силах подавить сигнал «мир перевернут», который по милости оборачивающих линз все время поступает в мозг от зрительного аппарата. А дальше нет ничего таинственного в «обращении», когда человек, уже давно привыкший к переворачивающей оптике, вдруг усилием воли воспринимает мир снова «кверху ногами». Фокус прост. Волевой стимул снимает запрет, и сигнал «мир перевернут» поступает в мозг. Канал оценки поворота срабатывает и напоминает человеку, что очки-то по-прежнему действуют...
На такие сложные операции способен только человеческий мозг, что подтверждает его особо высокое развитие по сравнению с мозгом любых других существ. Ведь когда инвертирующие очки надевают обезьяне, для нее это равносильно сокрушительному психологическому удару. Она, пошатываясь, делает несколько неверных движений и падает. Развивается классическая картина комы: угасают рефлексы, дыхание становится частым и поверхностным, падает кровяное давление. Впечатление, что животное при смерти... В этом тяжелейшем состоянии, характерном для острого поражения нервной системы, оно пребывает несколько дней, порой неделю. Медленно-медленно возвращается способность реагировать на внешние раздражители, да и то лишь на самые сильные. По большей части обезьяна лежит неподвижно, как бы выключившись из окружающего мира. Все это «в точности напоминает состояние животного, ослепшего в результате перенесенной болезни».
А человек... Он выдерживает и куда более сложные воздействия на зрительную систему. Продолжая свои опыты с оборачивающими очками, Логвиненко и Столин надели испытуемому линзы, которые нарушили соответствие между положением объекта на сетчатке и сигналами мышц, двигающих глазное яблоко. Нормальное соотношение таково: чем ближе предмет, тем сильнее нужно сводить оптические оси глаз, чтобы изображение не двоилось. Очки разрушили прямую связь, сделали ее обратной. Зрение говорило, что глаза нужно свести, а команды от мозга к мышцам должны были поступать противоположного свойства, то есть на разведение. К тому же на мышцы, управляющие хрусталиком (изображение необходимо поддерживать в резкости), также требовалось подать «обратные» команды. Мозгу, как видите, была задана крепкая задачка на сообразительность. И хотя ничего похожего на реакцию обезьяны не случилось, мозг все-таки оказался в полном недоумении. У человека разрушились привычные представления, возникли новые, странные образы. Тени, например, перестали быть тенями: они могли «восприниматься то как цвет поверхности, то как прозрачный участок, за которым виднелась чернеющая пустота, то как особая полупрозрачная плоскость и т. п.». Неплохо, а? «Прозрачная тень», которую мозг конструирует только потому, что не в состоянии связать зрительные и двигательные сигналы!
Да, все эти опыты доказывают бесспорно: картины мира, увиденные глазом и «отражающие» действительность, отражают ее правильно только до тех пор, пока зрительный аппарат и все иные органы чувств работают нормально и согласованно. Все системы восприятия должны участвовать в постижении действительности.
«Видимое поле» Гибсона — это, грубо говоря, фотография предметов, сделанная сетчаткой. Примитивная, плоская, мало что говорящая о мире фотография. Та самая, которую начинающий любитель делает, как говорится, без мысли.
А «видимый мир» — это уже картина, это уже образ. Не случайно же опытные педагоги утверждают, что в каждом из нас спрятан живописец, и нужно только освободиться от стеснительности.
Ущербным и бедным, а значит, плохо соответствующим реальности предстает мир перед людьми, глухими к живописи, скульптуре, музыке, искусству вообще: ведь именно искусство изощряет наши органы чувств, обогащает их диапазон, раздвигает границы восприятия мира. Именно о таких людях сказал поэт:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах.
Для них и солнцы, знать, не дышат И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела;
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними,
В беседе дружеской, гроза!
Живут в сем мире, как впотьмах.
Для них и солнцы, знать, не дышат И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела;
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними,
В беседе дружеской, гроза!
Разумеется, все сказанное ни в коей мере не умаляет роли науки, роли логического начала в постижении мира и законов природы, им управляющих. Но в том-то и дело, что великие ученые черпали в искусстве своеобразную опору для своих теоретических изысканий. «...Полезными комбинациями являются как раз наиболее изящные комбинации, т. е. те, которые в наибольшей степени способны удовлетворить тому специальному эстетическому чувству, которое знакомо всем математикам», — утверждал французский математик Пуанкаре. А Маркс сказал еще более определенно: «Какие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них есть то достоинство, что они представляют собой художественное целое...» Наука вскрывает всеобщие, «надчеловеческие» закономерности. Искусство изучает человека, познает «человеческое» в предметах и явлениях, с которыми он связан, в том числе и в самой науке. Наука без искусства — это холодный и нередко враждебный человеку феномен, вместе же они — великая песнь во славу человека. Чтобы проникнуть в в сущность вещей, необходимо создать в своем воображении адекватную модель мира, того самого «видимого мира», о котором мы столько говорили. И без искусства здесь многого не добьешься.
Австрийский математик Гёдель в начале 30-х годов нашего века доказал теорему, которая вошла в теорию познания как «теорема Гёделя». Она утверждает, что любая формализованная, логическая система принципиально не является полной. То есть в ней всегда можно отыскать утверждение, которое средствами этой системы не может быть ни опровергнуто, ни доказано. Чтобы обсуждать такое утверждение, необходимо выйти из этой системы, иначе ничего, кроме беготни по замкнутому кругу, не получится. Так вот, многие философы считают, что искусство по отношению к науке и является тем «другим миром», в который необходимо выйти, чтобы преодолеть теорему Гёделя по отношению к науке, этой гигантской логической системе. Наука открывает перед нами реальный образ мира, в котором мы живем, — и все-таки он будет неполон без искусства.
Есть поговорка: «Каждый кузнец своего счастья». Добавим: и своего «видимого мира» тоже. Пусть будет у каждого он богат и прекрасен!
----
Статья из книги: Как мы видим то, что видим | Демидов В.
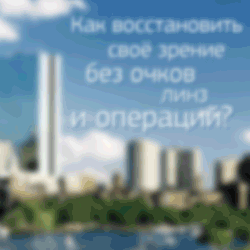
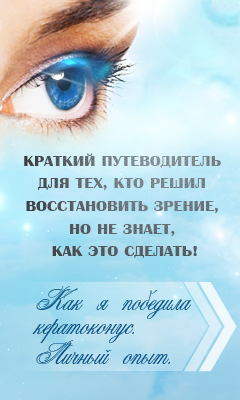
Комментариев 0