Плоский трехмерный мир

Описание
Обезьяны любят рисовать. Обычно они чертят красками на бумаге бессмысленные полосы и закорючки. Однако в один прекрасный день молодая шимпанзе Мойя нарисовала нечто, напоминающее не то рыбу, но то самолет. Когда ее спросили, что это такое, она ответила: «Это птица».Да, именно так: ответила! Мойя, как и другие молодые обезьяны — Пили, Татус, Коко и Уошо, — обучена специальному языку знаков и умеет составлять простые, лишенные грамматики, но все же понятные фразы. И отсутствием грамматики, и небольшим запасом слов-сигналов (около ста тридцати) «обезьяний язык» напоминает речь полуторагодовалого ребенка. И подобно постигающему мир ребенку, Уошо может долго изучать свою физиономию в зеркале, а потом протянуть к изображению руку и «сказать» ошеломленному экспериментатору: «Это я»...
Так вот, Мойя нарисовала птицу. Затем в присутствии целой комиссии экспертов она еще раз нарисовала птицу, а потом кошку и клубничку. Рисунки, конечно, далеки от шедевров изобразительного искусства, «но ведь ей всего три с половиной года, — говорит Беатрис Гарднер, ведущая вместе со своим мужем Аленом эти необыкновенно интересные исследования. — В таком возрасте и ребенок рисует немногим лучше... »
Конечно, подобные способности отнюдь не означают, что в мире начался бум «обезьяньей живописи» и что изобразительное искусство этих приматов наконец-то признано. Но последние годы принесли столько нового в познании наших «меньших братьев», что чем дальше, тем более стирается четкая грань между способностями высших животных и человека.
Например, всегда считалось, что только человек умеет пользоваться орудиями труда, которые он сам для себя изготовил, а животное, в том числе обезьяна, лишь случайно употребляет палку или камень как подсобное средство. Однако вот что зафиксировано на кинопленку: обезьяна берет или выламывает не любую подвернувшуюся ей палку, а только ту, которая подходит ей как орудие. Эти сенсационные результаты получены сотрудниками лаборатории физиологии приматов Института физиологии им. И. П. Павлова, работающими под руководством доктора медицинских наук Фир-сова. Они выпустили группу обезьян на маленький островок посередине озера Язно в Псковской области и отсняли потрясающе интересный фильм, который многие уже видели на телеэкране.
Смотрите, как шимпанзе Сильва доставала конфету из глубокой ямки, куда ее рука не могла проникнуть. Сначала она сломала и очистила от сучков одну палку, убедилась, что та коротка, выломала другую, подлиннее, затем третью, еще более длинную, а на четвертый раз — именно такую, какая требовалась. Ее сородич Тарас использовал палку в качестве упора, не дающего захлопнуться дверце ящика с лакомством. «Палка в руках шимпанзе становится универсальным предметом, — говорит Фирсов. — А ведь способность любую рогатину, хворостину превратить в нужный для каждого конкретного случая предмет дает основание рассматривать этот предмет как орудие, ибо он приобрел обобщенный характер. Такое поведение обезьян аналогично деятельности древнего человека. Стало быть, вопрос об «орудийной деятельности», разделяющий нас, людей, и животных, неожиданно усложняется...»
Корреспондент «Известий» Ежелев, беседовавший с ученым, задал вопрос: «Если поверить в то, что приматы способны к обобщениям, то не рядом ли и абстрактное мышление?»
«Одно и то же физиолог может назвать обобщением, а психолог — абстракцией», — последовал спокойный ответ. Оказывается, обезьяны, наученные выбирать больший по размеру одиночный предмет, совершенно не замечают изменения условий задачи, если приходится делать выбор между большим и меньшим множествам и знаков на карточках. Следовательно, обезьяны способны даже к некоторым обобщениям. А от обобщения рукой подать до понятия... Правда, до сих пор утверждалось, что понятие неотделимо от слова. Однако такая нераздельность свойственна лишь человеку. А у животных, считает современная наука, понятия просто другие, более низкие по сравнению со словесными человеческими. Ученые приходят к выводу, что общепринятые представления о работе мозга животных нуждаются в серьезных уточнениях. Неречевая (первая, по определению И» П. Павлова) сигнальная система «обеспечивает восприятие не только на уровне представлений, уровне образности, как мы привыкли думать, — заключает Фирсов. — В нервных механизмах головного мозга шимпанзе и, очевидно, у других антропоидов прослеживается некая подсистема, обеспечивающая восприятие на понятийном, но дословесном уровне».
Дословесном! Не правда ли, как неожиданно близко оказывается все это к работе зрительного механизма?! Ведь там даже у человека все происходит именно так — «досознательно», не в словах, то есть вполне сходно с животными. Почему бы не предположить, что рисунки Мойи — попытка выразить в образах какие-то свои понятия, показать самой себе свой внутренний мир?..
И здесь мы оставим симпатичных человекообразных и спросим себя: что такое картины? Почему сейчас, когда «бурное развитие» техники и промышленности сделало доступным каждому фотографический аппарат, прибор, в общем достоверно передающий яркости и цвета изображений, по-прежнему существуют живописцы, наносящие на холст краски точно такими же кистями, какими это делали две с половиной тысячи лет назад художники Древней Греции? Почему картины имеют стоимость, измеряемую порой шестизначными цифрами, а иные вообще не могут быть оценены никакой суммой, тогда как очень хорошие копии, не говоря уже о репродукциях, сравнительно с подлинниками не стоят ничего?
[banner_centerrs] {banner_centerrs} [/banner_centerrs]
Может быть, все дело в том, что художник способен угодить клиенту, сделать ему приятное? Действительно, в Фивах, как сообщает древнеримский писатель Элиан, закон предписывал «живописцам и ваятелям придавать тому, что они изображают, более возвышенные сравнительно с действительностью черты». За преуменьшение достоинств образа грозил штраф. Но сейчас техника ретуши и фотомонтажа достигла такого совершенства, что мастеру фотопортрета не составит труда убрать беспокоящие заказчика детали...
Рис. 29. Любой фрагмент этого рисунка Рембранта выглядит беспорядочным нагромождением линий, вместе же они позволяют увидеть фигуру человека и ребенка в полном их объеме. Почему? Только потому, что у нас в мозгу — сотни тысяч и миллионы разнообразных сведений о мире, в котором мы живем
Может быть, дело в том, что глаз вообще, а значит, и глаз художника различает миллионы оттенков цвета, способен уловить ничтожные изменения яркости, а самая лучшая фотопленка не в состоянии передать и малой толики колоссального цвето-светового богатства мира? Но глаз глазом, а на пути к картине стоит еще палитра. Она, как и фотопленка, ограничена в своих технических возможностях передачи цвета и особенно яркости.
Подбирая краски, искусно комбинируя их, художник может вызвать иллюзию поразительно верного («как на картине») соотношения цветов и яркостей изображения. Между тем измерения, проведенные с помощью даже не очень точных приборов, говорят, что и приблизительного соответствия тут нет — все «искажено». Что же, картина привлекает нас своей способностью создать иллюзию? Но разве не приедается, и весьма скоро, любое фокусничанье? Вспомните калейдоскоп: сколько минут вы будете способны смотреть в него без перерыва? А на картину вы глядите порой часами. И самое интересное — искусствоведы подтвердят, что это так: зритель одинаково способен восхищаться и предельно верной, и весьма условной передачей цветов и контуров.
Еще более запутывает проблему парадоксальность картины как таковой. С одной стороны, это просто холст или бумага, с другой — она выходит далеко за рамки «просто» холста или бумаги. «Никакой объект... не может быть одновременно двухмерным и трехмерным, — пишет английский исследователь Грегори в книге «Разумный глаз». — А картины мы видим именно так. Картина имеет совершенно определенный размер, и в то же время она показывает истинную величину человеческого лица, здания или корабля». Иными словами, к материальности картины приплюсовывается духовность того, кто на нее смотрит. Без зрителя, без его восприятия не возникнет ни трехмерности, ни «истинных» размеров.
Кто же ответит нам, что такое картина? Давайте попробуем взглянуть на полотна взглядом тонко чувствующего живопись критика. Не исключено, что после этого мы приблизимся к цели. Какие же картины нам взять? Пожалуй, лучше всего подходят для нашей задачи постимпрессионисты, творчество которых, по определению Большой советской энциклопедии, «своей проблематикой кладет начало истории изобразительного искусства 20 в.». Постимпрессионисты, которые своими картинами отразили «...мучительные и противоречивые поиски художниками устойчивых идейнонравственных ценностей». И, кстати, мы выясним, чем же художники вообще отличаются друг от друга, кроме того, что «пишут в разной манере», как принято говорить.
«Все на этих полотнах насквозь пронизывало солнце; тут были деревья, которые не мог бы определить ни один ботаник; животные, о существовании которых не подозревал и сам Кювье... море, словно излившееся из кратера вулкана; небо, на котором не мог бы жить ни один бог. Тут были неуклюжие остроплечие туземцы, в их детски наивных глазах чудилась таинственность бесконечности; были фантазии, воплощенные в пламенно-алых, лиловых и мерцающих красных тонах; были чисто декоративные композиции, в которых флора и фауна источали солнечный зной и сияние».
Это Гоген.
«Картина изображала остров Гранд-Жатт. Здесь, подобно колоннам готического собора, высились какие-то странные, похожие скорее на архитектурные сооружения, человеческие существа, написанные бесконечно разнообразными по цвету пятнышками. Трава, река, лодки, деревья — все было словно в тумане, все казалось абстрактным скоплением цветных пятнышек.
Картина была написана в самых светлых тонах — даже Мане и Дега, даже сам Гоген не отважились бы на такой свет и такие яркие краски. Она уводила зрителя в царство почти немыслимой, отвлеченной гармонии. Если это и была жизнь, то жизнь особая, неземная. Воздух мерцал и светился, но в нем не ощущалось ни единого дуновения. Это был как бы натюрморт живой, трепетной природы, из которой начисто изгнано всякое движение».
Это Сёра.
«С помощью красного и зеленого цветов он старался выразить дикие человеческие страсти. Интерьер кафе он написал в кроваво-красном и темно-желтом тонах с зеленым биллиардным столом посредине. Четыре лимонно-желтых лампы были окружены оранжевым и зеленым сиянием. Самые контрастные, диссонирующие оттенки красного и зеленого боролись и сталкивались в маленьких фигурках спящих бродяг. Он хотел показать, что кафе — это такое место, где человек может покончить самоубийством, сойти с ума или совершить преступление».
Это Ван Гог.
«Сначала мы видим на первом плане яркие, несгармонированные красочные пятна: высокие, словно приклеенные к холсту стволы сосен и сжатое, как слoженный лист бумаги, пространство. Взгляд скользит вверх и вниз по стволам сосен, затем переходит в правую часть картины — к четким очертаниям желтой полосы акведука. Акведук уводит взгляд в левую часть картины и благодаря сокращению в линейной перспективе создает иллюзию некоторой глубины. Взгляд обводит последний план, переходит к горе и возвращается к первому плану. Потом начинается второй круг обзора: взгляд идет по акведуку, к горе, пытаясь разобраться в нагромождении синих пятен и уловить очертания и объем горы. Несколько оранжевых и красных штриховых мазков в правой части горы и светло-желтые мазки, покрытые сверху тонким слоем голубого, создают объем. Потом и равнина перед горой приобретает пространственное протяжение, и в картине постепенно появляется глубина. Медленно проявляется пространство первого плана. Беспорядочные пятна объединяются во взаимном соотношении и начинают восприниматься как земля и трава, тени и свет. Дольше всего остается отдельным голубым пятном на плоскости холста пятно в правом нижнем углу. Но потом оно присоединяется к бугру глинистой земли и смотрится как длинная голубая тень на земле».
Это Сезанн.
Три первые цитаты взяты из книги Ирвина Стоуна «Жажда жизни», последняя — из сборника статей сотрудников Музея им. А. С. Пушкина «Западноевропейское искусство второй половины XIX в.», на материалах которого я буду в значительной мере строить свой дальнейший рассказ.
Четыре художника, четыре индивидуальности, четыре разных мира на холсте. Четыре мира? Или один, но трансформированный в соответствии с восприятием человека искусства?
Критики единодушны в своем мнении. Эти и другие постимпрессионисты велики не своей техникой письма, хотя она значительна и интересна, а тем, что они говорили миру такое, чего до них никто и никогда ему не говорил. Они предчувствовали потрясения XX века. «Наше столетие с его грандиозными войнами, социальными революциями, миллионами жертв, потрясением всех привычных мировоззренческих основ начинается не по календарю и не с первой мировой войны, в духовном плане оно начинается с экстатической взвихренности постимпрессионизма», — утверждает советский искусствовед Левитин.
Чтобы выразить свои чувства, постимпрессионисты шли на сознательное «искажение натуры». В картине «Танец в Мулен-Руж» Тулуз-Лотрек утрирует именно те вещи, на которые он хотел бы обратить внимание. Вот в центре пара танцоров: Валентин Ле Дезоссе, прозванный «человеком-змеей», и его партнерша Ла Гулю. Разве бывают в жизни такие извилистые ноги, как у Валентина? Вы видели когда-нибудь колени на том месте, где их нарисовал ему бесстрашный Лотрек? И когда это танцовщица, даже самая лихая, была способна выкрутиться так, как это сделала на картине Ла Гулю?
Рис. 30. Анри Тулуз-Лотрек. Танец в «Мулен Руж». 1890 г.
И в то же время видали вы когда-нибудь столь безумно пляшущую пару? Приходилось ли вам наблюдать, как картина, статичная по своей фактуре, превращается в подобие киноэкрана? Вглядитесь: ведь он перебирает ногами, этот Валентин Ле Дезоссе!
Да, конец века был временем поисков художественной выразительности. И не только во Франции. Немало дали мировому искусству русские художники. Проблему передачи движения успешно решал Суриков. Его «Боярыня Морозова» как раз такой пример исключительного мастерства. «Знаете ли вы, например, что для своей «Боярыни Морозовой» я много раз пришивал холст, — вспоминал художник. — Не идет у меня лошадь, а в движении есть живые точки, а есть мертвые. Это настоящая математика. Сидящие фигуры в санях держат их на месте. Надо найти расстояние от рамы до саней, чтобы пустить их в ход. Чуть было не найти расстояние — сани стоят. А мне Толстой с женой, когда «Морозову» смотрели, говорит: «Внизу надо срезать, низ не нужен, мешает». А там ничего убирать нельзя— сани не поедут».
И в этой картине ведь тоже все «не как в жизни». Критики того времени соревновались друг перед другом в выискивании «неправильностей»: и места-де для кучера в санях мало, и рука, мол, у боярыни чересчур длинна и вывернута так, как анатомически невозможно, и снег не притоптан на улице — сани словно по пороше в поле едут... Лучше всего ответил им сам Суриков: «Без ошибки такая пакость, что и глядеть тошно. В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины — угадывание. Если только сам дух времени соблюден — в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку — противно даже».
Выходит, искажения такого сорта — отнюдь не неуменье рисовать и уж ни в коем случае не желание «пооригинальничать», о чем Лотреку и его единомышленникам приходилось слышать немало. Эти «искажения» — средство, которым безошибочно достигается цель.
Ван Гог — какую задачу преследовал он своими огромными мазками, своей резкой цветной обводкой контуров, своими кричащими красками — словом, всеми теми приемами, которые подчеркивают «небывалость» изображенного на его полотнах? Вот как он объяснил это в своих письмах к брату Тео:
«Я хочу написать портрет друга, художника, пребывающего в больших мечтах, который работает так же, как соловей поет, в чем и заключается его натура. Этот человек будет белокурым. Мне, хотелось бы передать в живописи все мое удивление, всю любовь, которую я к нему питаю. Значит, я напишу его сначала так точно, как только смогу. Однако после этого картина еще не готова. Чтобы закончить ее, я становлюсь произвольным колористом. Преувеличиваю белокурость волос. Довожу до оранжевых тонов, до хрома, до светло-лимонного цвета. Позади головы, на месте обычной стены обычной комнаты, пишу бесконечность. Делаю фон богатейшего синего цвета, самого сильного, какой только могу получить. Таким образом, белокурая, светящаяся голова на фоне богатейшего синего цвета даст мистическое впечатление, как звезда в голубой лазури».
А вот по поводу другой картины — «Колыбельной»: это «изображение того, как матрос, ничего не знающий о живописи, представляет себе женщину на суше, находясь сам в открытом море».
«Мне бы хотелось писать так, чтобы все, у кого есть глаза, видели бы всё ясно», — таково творческое кредо художника.
А пейзажи Сезанна, как подметили искусствоведы, все построены на криволинейности. У него нарушена классика перспективы (заметим, что в этом «пороке» обвиняли и Сурикова, и Врубеля, и многих других живописцев). Но многоплановость Сезанна совсем иного свойства, нежели, скажем, Пуссена. У старых мастеров, обращает наше внимание советский искусствовед Перцева, пейзаж звал в глубину картины, заставлял взор переходить постепенно от переднего плана к задним планам. У Сезанна же пейзаж как бы противодействует вторжению взгляда, заставляет преодолевать какое-то сопротивление, двигаться по пространству картины весьма сложным путем. Мир Сезанна постигается в труде, в активной работе восприятия, потому что художник «воссоздает единый образ мира, логически переходя к открытию эмоционально-философского восприятия природы».
Когда смотришь на мир Сезанна, кажется, что он вращается, покачивается около центральной оси картины. Художник писал множество полотен, пытаясь постигнуть динамику поворотов дорог. Он смело нарушал каноны живописи: краски у него не глохнут по мере перехода к задним планам, как это считалось необходимым по теории воздушной перспективы (о суриковской «Боярыне Морозовой» некий критик писал: «Нет воздушной перспективы, которой достигнуть было немудрено, затерев несколько фигур вторых планов»), линии не сходятся, как того требует перспектива линейная. Предметы как бы сбегаются к центру картины, дальние планы становятся одновременно и далекими и близкими. Он, Сезанн, рисовал «невозможные фигуры» еще тогда, когда и названия такого не было! Он рисовал разные стороны предметов с разных точек зрения и соединял их воедино, сливал в цельность; его предметы как бы поворачиваются в пространстве то одним, то другим боком — и такая необычность «передает всю пластическую выразительность отдельных частей пейзажа... Сумма приемов рождает на полотне новое живописное пространство».
Именно так: пространство. Оно совсем не то у художника, что у нас. Оно организовано, оно подчиняется логике художественного творчества, в нем нет случайностей, характерных для мира, на который мы глядим из окна. Наш взор всегда невольно ищет согласованность, ритмичность, порядок — уж так устроен человеческий зрительный аппарат (почему — разговор еще будет). А художник делает за нас эту работу организации материала: на, бери, пользуйся!
Только нужно сначала немного потрудиться, нужно приучить себя, свой мозг смотреть на произведение живописи чуть иначе, чем на деталь автомобиля или резиновые сапоги: не так утилитарно-примитивно. Чтобы понимать картины, нужно учиться. Дети делают это непременно: они обводят пальчиком контур, чтобы выделить предмет на картине среди других — нетренированный аппарат опознавания путается в пересечениях линий. Их папы и мамы иной раз с бравадой провозглашают свое «непонимание» Кустодиева и Врубеля, Петрова-Водкина и Дейнеки: там все так «не похоже». Они не в силах представить, что картина — это окно в иной мир! Они считают единственным критерием свою персону и аплодируют критику, высокомерно заявившему в свое время на страницах одной из парижских газет: «Каким образом г. Коро может видеть природу такой, как он нам ее представляет? Нам в наших прогулках (разрядка моя. — В. Д.) никогда не приходилось видеть деревья похожими на изображения г. Коро».
Такие люди обожают фотографии, особенно цветные. Но и фотография сегодня — уже не та, какой она была даже десять лет назад. Мир фотоизображения, сделанного стандартным объективом со случайной точки, — это случайный взгляд. Он крайне неинтересен, в чем с горечью убеждается фотолюбитель, проявив и отпечатав свою первую (а иногда и не первую) пленку. То, что казалось таким прекрасным, выглядит до зевоты тоскливо: нет настроения, которое сопровождало человека в ту минуту, когда он любовался пейзажем. А откуда его взять, настроение? Как втиснуть в кадр? «В настоящее время технически грамотное изображение воспринимается как факт, само собой разумеющийся. Претендовать на художественную фотографию может только глубокая по содержанию и совершенная по форме работа», — прочитав такое, начинающий обращается к теории. И с удивлением видит, что современная фотография занята поисками выразительных средств ничуть не меньше, чем живопись. Всевозможные объективы, специальные способы обработки пленки и особые приемы фотопечати; достаточно развернуть газету, раскрыть иллюстрированный журнал, чтобы увидеть, как разнообразно мыслят фотографы, как они изощряются в попытках выразить мир — вот именно: не отразить, а выразить! — максимально близко к тому, как это делают художники.
Сверхшрокоугольный «рыбий глаз» предельно искажает изображение, превращает прямые линии в дугообразные, — вспоминаете Сезанна? Соляризация превращает фотографию в контурный рисунок ворсистой кистью — предельно подчеркнутые контуры изобретены Ван Гогом. Цветной пейзаж, превратившийся в скопище разноколерных точек, — Сёра, Синьяк?..
Нет, я вовсе не пытаюсь собирать обличительный материал и обвинять фотомастеров в плагиате. Просто уж очень интересен этот ход: попытка превратить камеру в подобие кисти (хотя в игру входят не только камера, но и множество других технических компонентов). Художники фотографии все смелее пытаются воплощать в своем творчестве призыв Максимилиана Волошина:
Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
И их попытки не безуспешны. Чем дальше, тем больше уходят они от голого копирования пространства. Они создают на листах фотобумаги свое пространство, по-своему осмысливают действительность. Они безжалостно убирают из кадра все лишнее, печатают позитив с двух, трех негативов, если выразительности одного недостаточно, они находят величественную ритмику труда там, где обычный глаз не замечает ничего, кроме хаоса вывороченной земли, труб и железобетона. Они видят мир, как люди искусства: каждый по-своему.
И здесь мы отступим в прошлое, уйдем на два с половиной столетия от наших дней.
Петербург, 1715 г. За десять лет до смерти Петра I здесь открывается Морская академия. Учить в ней было повелено:
- арифметике,
- геометрии,
- фехту, или приемам ружья,
- артиллерии,
- навигации,
- фортификации,
- географии,
- знанию членов корабельного гола (кузова) и такелажа,
- рисованию,
- бою на рапирах.
В 1716 г. начинает работать Хирургическая школа при Санкт-Петербургском военном госпитале. Рисование и здесь входит в программу.
Что же рисовали студенты? Детали военных судов? Артиллерийских орудий? Органы человеческого тела? Ничего подобного: пейзажи и портреты!.. Зачем же при крайней нехватке образованных людей, при нужде готовить специалистов елико возможно скорее тратили время на бесплодное вроде бы занятие?
«Рисование требует такой же деятельности ума, как наука» — кто это сказал? Современный нам лирик? Нет. Это слова учителя Сурикова, Репина, Врубеля, Серова, Поленова, Васнецова — Павла Петровича Чистякова. «Обучение рисованию... составляет столь важный предмет для развития в детях способности наблюдать и размышлять (разрядка моя. — В. Д), что ему должно быть отведено в школе одинаковое место с другими предметами преподавания» — это тоже его, Чистякова, слова. Имена его великих учеников, художников всемирно знаменитых, доказывают правоту его мыслей более чем весомо...
Не кажется ли теперь, что мы постепенно приближаемся к некоторому пониманию того, зачем одни люди рисуют картины, а другие эти картины смотрят? Что нам становится яснее, почему хорошие картины столь многоплановы в своей выразительной сущности, почему талантливые живописные произведения столь не передаваемы в словах? Не потому ли, что за картинами стоит нечто большее, чем просто желание художника «отобразить» что-то?
Размышлять... Думать о мире... О своем месте в этой бесконечной Вселенной — и среди близких людей... Голый охотник наносил на скалу контур пронзенного дротиком оленя — он верил, что теперь будет с добычей. Он пытался постигнуть законы, правящие природой, и повлиять на них. Он не виноват, что рационалистическим идеям о взаимосвязи явлений суждено было родиться только спустя много тысячелетий. Но он, этот безусловно талантливый человек, не только воспринимал мир своеобразно, он сумел донести свое восприятие до нас. «Мы часто вообще видим мир при помощи тех очков, которые носил тот или иной большой художник», — заметил Мейерхольд. Какое глубокое определение того, что принято называть «сопереживанием»! Творчество одного человека становится искрой, от которой загорается могучий костер, пробуждаются мысли другого, третьего, тысяч и миллионов.
«Произведение изобразительного искусства является не иллюстрацией к мыслям автора, а конечным проявлением самого мышления», — пишет работающий в США психолог Арнхейм. Вот почему великие творения мастеров живут вечно. Говорят, что когда Микеланджело упрекнули в недостаточной похожести портретов герцогов Медичи на оригиналы, великий итальянец спросил: «Кто заметит это через сто лет?» Мысли, заключенные в картинах, заслоняют порой даже историю. «Ботичелли был художник, писавший женские лица так, как их не писал никто ни раньше, ни позже его. Многие знают Ботичелли и его картины, но кто назовет вам политического лидера Флоренции тех времен, кто скажет, кому принадлежала крупнейшая импортная фирма Венеции или какие города воевали между собой и кто из них вышел победителем?» — заметил уже упоминавшийся дизайнер Нельсон. А в русской истории: кто, не задумываясь, назовет имена царей, при правлении которых писали Андрей Рублев, Брюллов, Куинджи, Репин, Суриков?..
Великие полотна бессмертны потому, что велик масштаб мыслей художника (не нужно забывать, что и колористика — отражение мышления). Большой человек никогда не замыкался в скорлупу, не уходил от животрепещущих вопросов жизни, пусть внешне это могло и почудиться. Как сказал поэт:
И, так как они не признали его,
Решил написать он себя самого,
И вышла картина на свет изо тьмы,
И все закричали ему:
Это мы!
Решил написать он себя самого,
И вышла картина на свет изо тьмы,
И все закричали ему:
Это мы!
Да, своими творениями, своими мыслями художник обращается к самым широким массам. Выставка картин «...всегда служит гражданской трибуной художника, выносящего для общественной оценки свои раздумья о жизни, о времени, о человеке. Здесь, в общении со зрителем, рядом с произведениями товарищей по искусству он получает возможность проверить прочность своих творческих позиций, глубину понимания духовных запросов современника», — читаем мы в передовой статье «Правды».
И не случайно кандидат искусствоведения Н. Молева, благодаря исследованиям которой мы узнали об уроках рисования в Морокой академии и Хирургической школе, назвала свою статью об этих уроках так:
«Путь к самому себе».
----
Статья из книги: Как мы видим то, что видим | Демидов В.
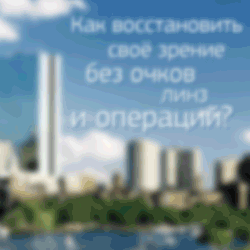
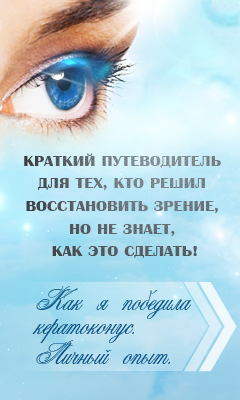


Комментариев 0